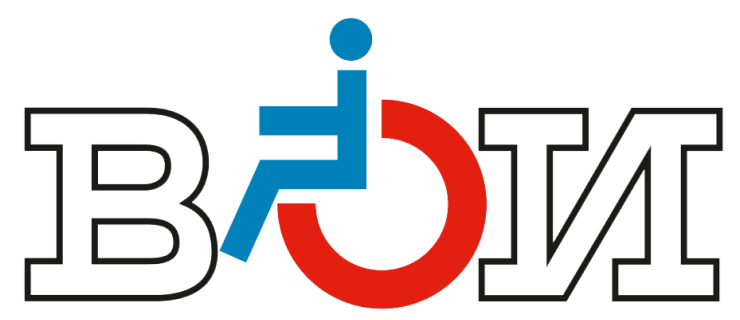Какие мифы и реальные ограничения мешают людям с инвалидностью работать и при чем тут архитектор, который не пришел?
15 апреля на региональном форуме «Сообщество» в Новосибирске прошла сессия «Повышение предпринимательской активности людей с инвалидностью как инструмент решения социальных проблем».
АСИ поговорило с участником сессии Игорем Галл-Савальским, председателем правления Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов, членом Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО, о том, сколько в России предпринимателей с инвалидностью и почему государство теряет дважды, когда не обеспечивает людей социальной занятостью.
Как много людей с инвалидностью занимаются предпринимательской деятельностью в России?
Цифры звучат по-разному, потому что никакой специальной статистики, определяющей общее количество предпринимателей с инвалидностью или долю таких людей в социальном предпринимательстве, не ведется. Все критерии и цифры, которые звучали на мероприятии, оценочные. Мы делаем оценочное суждение того, сколько среди предпринимателей имеют инвалидность, исходя из того, что примерно каждый десятый человек имеет инвалидность.
Другое дело, что Михаил Геннадьевич [Осокин, заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов – директор по региональному развитию] совершенно справедливо сказал, что среди предпринимателей доля людей с инвалидностью выше. Это потому что вариативность поведения человека с инвалидностью на рынке труда значительно ниже, чем вариативность поведения человека без инвалидности.
Ну закончил я школу, могу пойти [работать] грузчиком, а могу поступить в университет. А у человека с инвалидностью этой возможности пойти грузчиком нет.
Вариативность ниже, поэтому их стремление реализовать себя, понимая свои физические ограничения, позволяет идти именно в это направление, в предпринимательство.
Там нет жесткой привязки к рабочему времени: сегодня я могу работать два часа, а завтра — двенадцать, в зависимости от состояния здоровья.
Много или мало людей с инвалидностью занимаются предпринимательством? Очень хотелось бы, чтобы было больше. Не только людей с инвалидностью, а вообще людей. Потому что очень многие понимают предпринимательство как некую контору, которая что-то покупает и что-то продает. Покупает подешевле, продает подороже.
Но вкусные пирожки, которые вдоль дороги продает бабушка, — это тоже предпринимательство. И не случайно Минтруд абсолютно серьезно обсуждает вопрос, как, используя новую экономическую ситуацию, вывести из тени этих людей. Не для того, чтобы обложить их налогом…
Нет?
Нет. А для того чтобы им помочь. Их надо институционализировать. До 50% картофеля, овощей, мяса производится в личных подсобных хозяйствах. Люди кормят себя и других, и помочь им, конечно, надо.
Во многом те меры поддержки МСП, которые принимаются государством, по отношению к этой большой категории людей не работают. Потому что само государство ориентировано на то, что есть структура, контора. А что у этой бабушки есть? Но именно она — наш кормилец.
Поэтому поддерживать такое предпринимательство — очень серьезная задача государства. Это база и устойчивость, то, на чем будет стоять и крепнуть наше государство. Потому что именно эти люди не пойдут митинговать, им не до этого, они заняты, у них пирожки.
А по сравнению с долей людей с инвалидностью, которые работают по найму, предпринимателей больше?
В данный момент те учтенные занятости, о которых мы говорим, — 26% работающих людей с инвалидностью, — разбиваются следующим образом: примерно 70% людей работают на предприятиях, примерно 30% предпринимателей.
А что мешает 70% быть предпринимателями, а 30% — работать по найму?
Это же предпочтение и человеческий выбор. Меня гораздо больше в этой ситуации пугает не это соотношение, а то, что среди всех инвалидов трудоспособного возраста работает всего четверть. Это говорит о том, что три четверти людей трудоспособного возраста, которые могли приносить пользу, сидят дома и ничего не делают.
Они не могут быть богатыми, потому что на пенсию богатым не будешь. И в то же время они ничего не предпринимают, чтобы что-то изменить.
Почему?
Очень хороший вопрос. Когда я начинал нашу дискуссию здесь (на региональном форуме «Сообщество» в Новосибирске. — Прим. АСИ), я сказал: вот освидетельствовали мы в этом году тысячу людей с инвалидностью. Среди этой тысячи 100 человек трудоспособного возраста. Служба занятости взяла телефоны и начала обзванивать их. И только 25 человек из 100 согласились прийти в службу занятости и посмотреть, что там за рабочие места.
75% сказали: нет, не пойдем. Почему? Потому что существует целая серия мифов и реально существующих ограничений.
Например, миф о том, что если я выйду на работу, с меня снимут инвалидность. Это не так, группа инвалидности от факта трудоустройства не зависит.
Не миф — меры господдержки человека с инвалидностью от факта трудоустройства зависят и достаточно существенно. Мы оценивали, насколько, и пришли к выводу, что в среднем 6-8 тысяч рублей мер государственной поддержки связано с фактом материального обеспечения и трудоустройства. То есть если он сидит дома, то получает эти деньги, а если выходит на работу и получает хотя бы 2-3 тысячи рублей зарплаты, у него эти 6-8 тысяч улетают.
И что же с этим делать?
Я пытаюсь объяснить Министерству труда, Пенсионному фонду и всем остальным, что нельзя одной рукой тратить государственные деньги на трудоустройство людей с инвалидностью, обучение, создание специальных рабочих мест и инфраструктуры, а второй писать: ты сиди дома, никуда не выходи, иначе мы у тебя заберем пенсию! Так нельзя, государство должно думать об интересах человека.
Давайте приведем очень простой пример: мы говорим «пенсия по инвалидности». Но пенсия — это то, что я заработал, отчисляя деньги в Пенсионный фонд в течение некоторого времени. Какая пенсия у инвалида-ребенка, которому годик? Это же не пенсия. Это пособие на выравнивание возможностей. Вам трость для передвижения не нужна, а мне нужна. Это дополнительные расходы. Вот мне государство по сути на трость и дает, чтобы у нас всех были равные возможности. Потому что права тоже должны быть равными.
Вот вы можете ездить в общественном транспорте, а я не могу. Мне нужно такси, чтобы добраться до работы. И на это мне нужны дополнительные средства.
Тогда почему это зависит от факта трудоустройства? Это должно зависеть от состояния здоровья.
Поэтому, безусловно, факт господдержки людей с инвалидностью, которые выделяются по состоянию здоровья, не должен зависеть от факта трудоустройства.
Если мы это отвяжем, я вас уверяю, мы нарастим занятость людей с инвалидностью.
Все 75% придут?
Не придут 75%. Потому что есть еще один барьер — доступность. Мы рабочее место создаем в одном месте, а человек живет в другом. Транспортная инфраструктура не позволяет им оказаться в нужном месте. Есть еще одно ограничение — уровень квалификации.
Система образования людей с инвалидностью, к сожалению, сейчас не позволяет людям с инвалидностью свободно конкурировать на рынке труда. А работодателю нет разницы — он бизнес делает, чтобы зарабатывать. Проблемы занятости людей с инвалидностью не будет, как только они станут свободно конкурировать на рынке. Вот Германия, например, изначально вкладывает в людей с инвалидностью столько, что ни одна компания не поспорит с этим. И после этого государство умывает руки: все, теперь ты сам, выбирай, где хочешь жить, где работать.
Совершенно очевидно, что создание рабочего места для человека с инвалидностью в бизнесе или где-то еще более затратно, чем для обычного сотрудника. Кто-то должен понести эти затраты, но мы до сих пор не можем определиться, кто. Предприниматель или государство? Мы хотим, чтобы и тот, и тот, а в результате ни тот, ни другой.
И, наконец, есть еще один вид занятости — это так называемая социальная занятость. Есть категория людей с инвалидностью, которая никогда не будет производить продукцию соответствующего качества и в должных объемах, чтобы окупать затраты на организацию самого производства. Это люди с ментальной инвалидностью, очень сильными ограничениями в движении и так далее. Но это не значит, что создание мест социальной занятости для них не имеет эффекта.
Почему? Потому что находясь дома, этот человек нуждается в постоянном присмотре, причем не квалифицированного человека, то есть родственника. А этот родственник, может, гениальный программист, но вот он сидит дома и приглядывает за человеком, в состоянии которого не понимает ничего.
И государство теряет дважды. Оно теряет классного программиста и производителя маленького, вроде бы ничтожного товара.
Но если этого человека с инвалидностью, как в детский сад, в восемь утра привести в социальное предприятие, оставить, там будут психолог, терапевт, дефектолог, профильные специалисты, которые дадут ему возможность что-то делать и чему-то научиться. И он это будет делать — пусть не нужный сейчас никому конверт, но даже их иногда покупают. Их производят не для того, чтобы их обязательно покупали, а чтобы эти люди чувствовали себя полезными. А программист будет делать в это время что-то полезное.
У меня еще вопрос по поводу профориентации: как это должно происходить и как происходит?
Самым эффективным для государства было бы тратить деньги один раз и в маленьком количестве, а не постоянно и большие. В момент появления человека с инвалидностью — не важно, родился он таким или получил травму, рядом с ним должна появиться группа специалистов. Архитектор, реабилитолог, врач, экономист, специалист службы занятости и так далее. Они, профессионально общаясь с этим человеком, вместе с ним (не для него, а вместе) определят его реабилитационный потенциал.
Это значит степень его обратного включения в процесс экономического, политического, общественного развития нашей страны. Исходя из этого потенциала, спрашивая у человека, чего бы он хотел добиться, вместе с ним выстраивать реабилитационную траекторию.
Что у нас происходит на самом деле? К человеку с инвалидностью в один момент приходит архитектор и говорит: мы тебе сделали архитектурную доступность. Ну сделали, человек вышел, постоял и пошел обратно домой. Потому что транспортную инфраструктуру не адаптировали.
А к другому человеку с инвалидностью пришел специалист по транспорту и говорит: мы тебе сделаем, будут ходить низкопольные автобусы. Окей, только он из дома не может выйти.
Вроде как все заняты, вроде ситуация меняется, но человеку в конечном счете от этого мало пользы, потому что исходят из интересов ведомства, а не человека.
Вот в чем проблема реабилитации. Она — как безопасность, не может быть прерывистой. Отсутствие одного из сегментов делает ее бессмысленной. Рабочее место создали, потратили бюджетные — кстати, наши с вами — деньги, доступную среду в квартире, подъезде сделали, все хорошо, транспорт обеспечили. Но на автобусной остановке забыли убрать поребрик — мелочь, и вся структура за огромные деньги рухнула.
Необходимо включение человека с инвалидностью в процесс реабилитации как субъекта, а не объекта. Пока этого не происходит, наши с вами деньги летят в пустоту.
Вроде бы реабилитация осуществляется, рабочие места создаются, а как было 25%, так и есть. И начинается поиск врага. Кто? А, инвалиды-тунеядцы, не хотят работать. И никто не задается вопросом: почему?
Агентство социальной информации
22 апреля, 2022